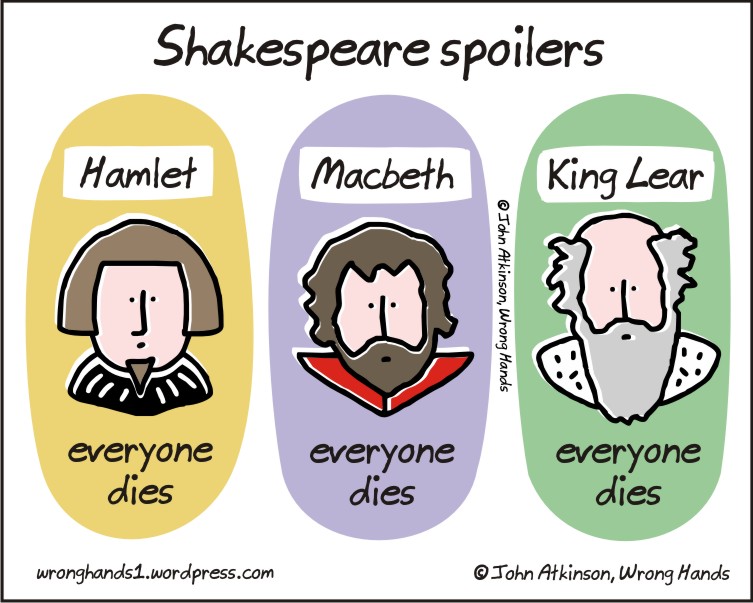Вот, помню, еще когда писала диссертацию, то одним вечером методично доставала всех знакомых, имеющих хоть какое-то отношение к химии, вопросом: а если средневековый доспех опустить на ночь в морскую воду, может ли он заржаветь до неузнаваемости?
Потому что в шекспировском "Перикле" главный герой, выброшенный после кораблекрушения на берег, как Иона или герой Воннегута, отбирает у рыбаков выловленный доспех ("шлем моего дедушки! латы моей бабушки!") и едет в нем на местный турнир. А на местный турнир его еле-еле пускают. Лорды кривят нос и комментируют, что в таких ржавых доспехах он похож на крестьянина, а не на рыцаря.
Так вот, мне позарез надо было знать - возможно ли это, или все-таки театральное допущение.
В процессе дискуссии выяснилось еще, что средневековые доспехи делали из (естественно) сплавов, незнакомым современным химикам.
Решили, что театральное допущение, и знать больше ничего, так у меня в диссертации и написано: ОЗС (один знакомый сказал).
Вчера мучила гугль-карту, разглядывая на ней Реку Иордан, Иерусалим и прилегающие пустыни. Почему, ну почему я не учила географию в школе? Вот, знаете, была такая Мария Египетская, замечательная средневековая святая, известная своей распутностью в годы юности. Я по ней пишу статью, то есть по одному ее среднеанглийскому житию второй половины тринадцатого века.
Мария Египетская родилась где-то в египетском захолустье, потом сбежала в Александрию, потом поплыла на корабле в Иерусалим (чьей территорией был Иерусалим в шестом-седьмом веке, никто не знает, случайно?), потом совершила путешествие в монастырь на берегу Реки Иордан (кажется, монастырь Иоанна Крестителя), а оттуда ушла в пустыню. Перейдя реку, я так понимаю. Нет, ходить по воде и левитировать она начала позже.
Кто-нибудь, кто знает эти места: в какую пустыню она могла уйти? является ли эта пустыня египетской? сколько там вообще пустынь, прилегающих к Реке Иордан?
Практических соображений жизни в пустыне в расчет можно не принимать: в зависимости от версии легенды, она жила там около сорока лет, взяв с собой из припасов три буханки хлеба и не имея контактов с людьми. Зато ей являлась Дева Мария.
Потому что в шекспировском "Перикле" главный герой, выброшенный после кораблекрушения на берег, как Иона или герой Воннегута, отбирает у рыбаков выловленный доспех ("шлем моего дедушки! латы моей бабушки!") и едет в нем на местный турнир. А на местный турнир его еле-еле пускают. Лорды кривят нос и комментируют, что в таких ржавых доспехах он похож на крестьянина, а не на рыцаря.
Так вот, мне позарез надо было знать - возможно ли это, или все-таки театральное допущение.
В процессе дискуссии выяснилось еще, что средневековые доспехи делали из (естественно) сплавов, незнакомым современным химикам.
Решили, что театральное допущение, и знать больше ничего, так у меня в диссертации и написано: ОЗС (один знакомый сказал).
Вчера мучила гугль-карту, разглядывая на ней Реку Иордан, Иерусалим и прилегающие пустыни. Почему, ну почему я не учила географию в школе? Вот, знаете, была такая Мария Египетская, замечательная средневековая святая, известная своей распутностью в годы юности. Я по ней пишу статью, то есть по одному ее среднеанглийскому житию второй половины тринадцатого века.
Мария Египетская родилась где-то в египетском захолустье, потом сбежала в Александрию, потом поплыла на корабле в Иерусалим (чьей территорией был Иерусалим в шестом-седьмом веке, никто не знает, случайно?), потом совершила путешествие в монастырь на берегу Реки Иордан (кажется, монастырь Иоанна Крестителя), а оттуда ушла в пустыню. Перейдя реку, я так понимаю. Нет, ходить по воде и левитировать она начала позже.
Кто-нибудь, кто знает эти места: в какую пустыню она могла уйти? является ли эта пустыня египетской? сколько там вообще пустынь, прилегающих к Реке Иордан?
Практических соображений жизни в пустыне в расчет можно не принимать: в зависимости от версии легенды, она жила там около сорока лет, взяв с собой из припасов три буханки хлеба и не имея контактов с людьми. Зато ей являлась Дева Мария.